Было свежее и ясное июньское утро. Беспечно и резво бегал я по маленькому нашему садику в Лефортове, когда меня позвали к матушке. Я нашел ее в спальной у окна с «Московскими ведомостями» в руках. «Ну вот, Алеша, и тебя определили в корпус», — сказала она, опуская газету к себе на колени. Это было в 1830 году, когда открывалось малолетнее отделение. Мне шел восьмой год.
4 июля около 10 часов утра в гостиной был поставлен столик, накрытый чистой скатертью с образом и миской, наполненной водой, тут же лежало несколько восковых свечей. Отслужили молебен, бабушка благословила меня образом; перекрестила матушка, крепко-крепко поцеловала она меня, еще раз перекрестила, и мы с отцом вышли на крыльцо, где уже дожидались нас дрожки. Батюшка повез меня в главный корпус, находившийся в Головинском дворце, где меня водили в лазарет для осмотра телосложения.
Из главного’ корпуса мы отправились на Немецкую улицу в малолетнее отделение. Как теперь помню ту минуту, когда я вошел с отцом в просторную светлую залу с четырьмя колоннами по углам, по которой бегали и резвились несколько десятков мальчуганов, будущих моих товарищей, кто уже в форменных курточках, а кто еще в домашних рубашечках. При входе нашем вся эта пестрая толпа бросилась было к нам, но звонок классной дамы — так назывались надзирательницы — разогнал их, и я остался с отцом вдвоем. Посидели, поговорили, и после троекратного осенения меня крестом и сердечного поцелуя батюшка простился со мной.
На другой день в календаре 1830 года на листке, вклеенном для отметок, против июля месяца явилась заметка красными чернилами: «4 Алеша поступил в малолетнее отделение». А я, простившись с отцом, бойко вмешался в толпу товарищей и, запряженный кем-то из них в «тройку», получил отчетливое наставление как, в качестве пристяжной, должен был гнуть голову, фыркать и бить копытом… Ни толчков, ни щипков — ничего не было, как говорят, бывает это с новичками в других заведениях; только некоторые подходили ко мне и спрашивали, не играл ли я дома в бабки? «Нет, не играл», — отвечал я, и спрашивавшие отходили от меня, не сказав ни слова. После узнал я, что вопрос этот предлагался каждому новичку, и если он говорил, что играл, то над ним смеялись. Надо сказать, что первыми кадетами малолетнего отделения были несколько человек, переведенных из главного корпуса как не достигшие 10-летнего возраста: они-то все и спрашивали у новичков о бабках. Теперь, вспоминая об этом, я дивлюсь, откуда взялась эта щепетильность между детьми хотя и дворянскими, но далеко не аристократическими?
Весь день прорезвился я, ни разу не вспомнив, что нахожусь между чужими; но вот солнце стало садиться… Веселость мою как рукой сняло; я задумался, сердце у меня сжалось, и я заплакал — по своем доме, по своем садике. Как грустно, как тяжело мне было тогда! «К<орсако>в, К<орсако>в! Тебя спрашивают», — раздалось вокруг меня несколько голосов. Я бросился к матушке и замер в ее объятиях, в ее поцелуях. Лишь только мы сели, как передо мной раскрылась белая камышовая корзиночка с крендельками и булками и свежей, душистой малиной, только что поспевшей в этом году и в первый раз собранной. Я не был голоден, но ел и крендели, и булки, и малину, да и как было не есть — ведь все было из дому!.. Заботливо расспрашивала меня матушка, каково мне на новоселье, и я, забыв грусть свою, с живостью бойкого ребенка рассказывал свои детские впечатления.
Так прошел мои первый день в чужой семье. Матушка навещала меня часто, а по праздникам я ходил домой и виделся с батюшкой. Скоро я так освоился с новым для меня миром, что уже не скучал по дому. Нашлись у меня и «друзья», с которыми я больше, чем с другими, проводил время в разговорах и больше играл .
Малолетнее отделение было учреждено для воспитания и первоначального обучения детей от 7 до 10-летнего возраста,‘по достижении которого их переводили в главный корпус, где и зачисляли в самую младшую роту — неранжированную, или, как тогда говорили, резервную. Заведение это состояло под начальством директора главного корпуса, ближайшее же заведование им поручалось одному из двух штаб-офицеров, положенных по штату при корпусе.
Кроме этого штаб-офицера, который по отношению к малолетнему отделению был также поставлен как батальонный командир в корпусе, надзор за нравственным и физическим воспитанием детей поручался старшей надзирательнице и трем ее помощницам так точно, как в корпусе тот же надзор вверялся ротным командирам и их помощникам — субалтерн-офицерам. В лазарете была особая надзирательница. Прислуга была женская, за исключением некоторых должностей, как, например, писаря, двух фельдшеров, швейцара, нескольких поваров и дворников — эти все назначались из служительской роты корпуса. Затем при малолетнем отделении был священник с двумя причетниками и один из помощников эконома главного корпуса. Для визитации больных ежедневно приезжал один из врачей главного корпуса.
Во время моего поступления директором корпуса был генерал-майор Петр Сергеевич Ушаков 3-й, который, впрочем, никогда к нам и не заглядывал, а заведующим малолетним отделением — подполковник Григорий Артемьевич Дорошинский, служивший прежде в артиллерии, потом в Дворянском полку, откуда, по сформировании в Московском корпусе пяти рот, был переведен к нам в корпус в должность младшего штаб-офицера. Это был добряк в полном смысле слова. Известно, что воспитанники учебных заведений имеют привычку давать некоторым начальникам, так же как и товарищам своим, прозвища или клички. Помнится мне, что и Дорошинского в корпусе окрестили кличкой — «Горячий», но почему, решительно не понимаю. Кажется, никому так не приходилась «не по шерсти кличка», как волоокому Григорью Артемьевичу В самом деле, никогда не приходилось мне видеть его горячившимся, кричавшим, выходившим из себя, и если он действительно имел горячий темперамент (не назовут же даром) и не мог иногда сдерживать себя, сидя в классе у кадет старшего возраста , то тем более было ему чести, что он умел сдерживать себя с детьми. Правда, он посекал нас, но никогда в таких случаях не обнаруживал ни горячности, ни вспышки, и наказания его никогда не выходили за пределы строгости, обуславливаемой детским возрастом. Дети не бегали от него, как это случалось с нами потом в корпусе при виде начальников; напротив, они доверчиво окружали его и весело пускались в разговоры. Дорошинский хорошо рисовал и нередко на шивал нам картинки . Он хорошо знал башмачное ремесло и ни от кого не скрывал, что на жену и маленького сына шьет башмаки сам.
Старшей надзирательницей была Хомякова — женщина, как мне казалось, кроткого, мягкого характера, но болезненная. Так как она была вдова генерал-майора, то ее называли «генеральшей», к чему все так привыкли, что когда вместо нее (она недолго служила) была определена баронесса Елизавета Ивановна Корф, то и ее величали «генеральшей», да еще и директрисой — обстоятельство, ставшее потом причиной больших для нее неприятностей.
Дело в том, что баронесса Корф, женщина умная, с самостоятельным характером и барскими замашками, вообразила себе, что она — главное лицо в малолетнем отделении, как директор в главном корпусе. Благодаря этому заблуждению она так и держала себя или по крайней мере старалась поставить себя в положение главной начальницы. Дорошинский или не замечал этого, или не хотел обращать на то никакого внимания, чрез что действительно как будто стушевывался перед ней. Была ли тому причиной вежливость, которую он находил нужным оказывать светской баронессе и ее хорошенькой племяннице , мирный ли нрав его или отсутствие служебного самолюбия — не знаю. Еще менее могли замечать претензии баронессы Корф такие директора, как Ушаков , но когда был назначен <Александр Осипович> Статковский, то он тотчас же дал заметить ей, что директор — он, а она, баронесса, не более как старшая надзирательница. Баронская гордость не вынесла афронта и величественно удалилась из заведения. Баронессу Корф заменила сперва княгиня Шаховская, а после нее одна из надзирательниц — Матрена Савишна Чурашева, женщина с не меньшим умом, как и баронесса Корф, но без ее заносчивости, ловкая, предусмотрительная, с замечательным тактом, словом сказать, тонкий политик в зеленом платье. Матрена Савишна пережила семь директоров и только при восьмом оставила службу, да и то лишь оттого, что по преклонным летам своим лишилась зрения и самое малолетнее отделение было упразднено.
Обращаюсь к нашему учению в малолетнем отделении. Классов было три, из которых первый был старший. Я поступил в третий, так как познания, приобретенные мной дома, были весьма ограниченны. Несмотря на то, что мне шел восьмой год, я ничего больше не знал, как только читать по-русски и списывать с прописи, очень плохо — нумерацию, хотя и делал сложение и вычитание целых чисел, знал кое-что из Священной истории Ветхого Завета . По-французски и по-немецки дома я не учился.
Помнится мне сцена одного осеннего вечера. Третий класс рассадили во втором, а второй увели в третий. В комнате стоял стол, покрытый красным сукном, на столе горели две восковые свечи, а в креслах сидел седенький старичок . Старичок страдал удушливым катаром и потому очень часто закашливался продолжительным судорожным кашлем, наклоняясь над поставленной у его кресла песочницей; потом он несколько секунд тяжело дышал и утирался платком, который так и не клал в карман, а держал возле себя на столе. Это был инспектор классов главного корпуса коллежский советник Степанов, в молодости, как мне сказывали, служивший под знаменами Суворова, о чем он и любил рассказывать старшим кадетам. Он приехал к нам делать экзамен.
Степанов вызвал меня и, открывая книгу, спросил: умею ли я читать по-французски? «Нет, я только азбуку знаю», — почему-то отвечал я, хотя не знали азбуки. Он открыл ту страницу, на которой была азбука, и стал спрашивать буквы вразбивку. После весьма непродолжительного опыта оказалось, что я ничего не знаю. «Ну хорошо, душечка, сядь на место», — сказал мне Степанов, и затем я уже ничего не помню, как продолжался и чем кончился наш экзамен.
На другой день надзирательница Дмитриева увела меня в лазарет и стала учить меня по-французски; всякий день я ходил к ней и под ее руководством научился азбуке, складам и, наконец, стал читать.
В третьем и во втором классах учили историю Ветхого Завета и Нового Завета , а в последнем — краткий Катехизис ; по русскому языку — в младших классах чтение и письмо, а в последнем — грамматика , причем вне классов должны были приготовлять письменный этимологический разбор нескольких строк, что я весьма охотно делал, так как занятие это меня интересовало. Не то было с арифметикой, которую преподавал И. П. В-в. Его вспыльчивость, нетерпеливость и щелчки, которыми он удостаивал меня у большой черной доски, вселяли в меня страх и отвращение к арифметике, отчего, по переводе меня в корпус, я всегда шел по математике плохо. В последнем классе учили также всеобщую историю и географию ; но от той и другой оставались у меня смутные понятия, да едва ли и уместно было преподавать эти предметы в таком раннем возрасте. Особенно часты были классы чистописания, что, как мне кажется, было весьма полезно; ибо с прописей мы привыкали писать не только чисто и красиво, но и правильно, чем значительно облегчалась задача преподавателя русского языка.
В августе до слуха нашего часто стало доходить слово, которого до того времени никогда не слыхивали, — холера ! Мы не могли понять и того страха, который оно наводило на всех, а потому немало были изумлены, когда нас перестали отпускать к родителям, а их — к нам. Как теперь на моих глазах отец одного из наших товарищей, штаб-офицер гарнизонного батальона , стоял на дворе и жадно смотрел на маленького своего сына, которого ему показывали через окно. Нежные улыбки и поцелуи передавались со двора в стены здания, но увы! — пропасть между отцом и ребенком лежала непроходимая…
Скучно и однообразно потянулись наши дни в четырех стенах, пропитанных неприятным запахом хлора, который расставляли во всех комнатах. В предупреждение расстройства пищеварительных органов было предписано для питья употреблять одну сухарную воду, а в пищу — суп из круп, дающих слизистый отвар, и кашицу из смоленской крупы. После каждой воскресной литургии пелись молебны Пресвятой Троице. Не помню, чтобы кто-нибудь, кроме добряка Дорошинского, имел желание развлекать нас в нашем уединении; но он забавлял нас, показывая сделанный им самим картонный театр. Игрушка эта так понравилась нам, что некоторые сами стали пытаться устраивать подобные же сценки: началось рисованье, вырезыванье, клеенье; в конце концов вышло то, что мы были заняты и меньше скучали.
Смутно припоминаю, как у нас заговорили о кончине великого князя Константин Павловича <в 1831 году> и, кажется, по этому случаю служили панихиду. Кто такой был Константин Павлович, я до того времени не имел никакого понятия, а тут узнал, что он был главным начальником всех кадетских корпусов.
Кажется, в том же году, летом или в конце его, нас стали готовить к приезду великого князя. Это был Михаил Павлович, принявший начальствование над кадетскими корпусами. Так как у всех на языке было не столько его имя, как титул великого князя, то я в простоте своей думал, что к нам приедет большой, высокий князь. На самом-то деле оно так и оказалось, но заблуждение мое было поводом к тому, что надзирательницы стали разъяснять нам, что великий князь есть титул братьев и сыновей государя и что в разговоре с ними называют их Ваше Императорское Высочество . Приготовляясь к посещению великого князя, учили нас, чтобы мы непременно целовали у него руку, если он кого-нибудь приласкает из нас.
За несколько часов до его приезда классные дамы принарядились в светло-зеленые платья, осматривали нас, обдергивали, причесывали, а перед приездом великого князя поставили в шеренгу по обеим сторонам залы.
Но вот в дверях залы показался высокий, плотно сложенный, сутуловатый генерал и звучным голосом сказал, смотря на нас сверху вниз: «Здравствуйте, карапузы!» — «Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество!» — прозвенело около сотни тоненьких, металлических голосков. Классные дамы сделали низкий, почтительный реверанс. «Вот он какой, великий-то князь», — думал я, глядя во все глаза…
Недолго стояли мы в шеренге. Окинув нас взглядом, Михаил Павлович позвал к себе, и мы, как саранча, облепили его. Наставления классных дам относительно целования руки были у всех в памяти и исполнялись всякий раз, как только рука великого князя прикасалась к кому-либо из нас; но такое изъявление чувств, кажется, не очень нравилось Михаилу Павловичу, как я могу думать теперь .
Не припомню, бывал ли у нас покойный государь <Николай Павлович>, но императрица Александра Федоровна, главный, так сказать, шеф Александровского малолетнего <Царскосельского кадетского> корпуса и нашего отделения, была при мне, кажется, раза два или три, и один раз провела несколько часов. Она сидела у нас в зале, долго разговаривала с баронессой Корф и другими надзирательницами, а мы были распущены, то есть не стояли в шеренге, как это всегда делалось при приездах высших начальствующих лиц; потом сидела за нашим обеденным столом, причем во все время обеда занимала за столом место надзирательницы первого отделения. Вообще, посещение императрицы имело в этот раз такой вид, как будто она благоволила быть у нас дежурной классной дамой. В тот же день вечером нам прислала государыня несколько фунтов отличнейших конфект. При отъезде своем она оставила повеление, чтобы вместо сбитня, которым до сих пор нас поили по утрам, давали бы габерсуп. Прекрасные, правильные черты лица, непроизвольное кивание головой и не совсем русское словоударение государыни остались у меня в памяти.
Прислуга у нас была женская; но кроме нянек были еще дядьки — отставные унтер-офицеры , все без исключения Георгиевские кавалеры. Днем они находились при нас и были как бы помощниками дежурной классной дамы. Помнится мне, когда, бывало, строились идти к столу или в сад, дежурная классная дама скажет: à droit или à gauche[1], мы повернемся и пойдем за ней, хотя и рядами, попарно, но немилосердно обтаптывая друг другу ноги; а тут прислали нам дядек; они становились перед нами и командовали сперва: смирно! — а потом: напра-во! скорым шагом марш! Дядьки учили нас «стойке», поворотам и маршировке, так что мы скоро уже привыкли ходить в ногу.
Под влиянием ли бесед с дядьками или по чему другому, только игры наши в рекреационные часы, особенно летом, стали принимать иной характер, чем прежде: у нас появились самодельные знамена, палки заменяли нам ружья и пики, на головах показались бумажные шляпы с такими же султанами; мы играли в «казаки», в «оренбургские уланы» и т. п., а вскоре завелась и еще одна забава.
Однажды, когда мы после утренних классов ходили и бегали по зале, в нее вошел корпусный адъютант Николай Павлович Львов, а за ним маленький кантонист с барабаном. Мы все так и бросились к нему. Тогда Львов объявил дежурной даме, что барабанщик этот останется при отделении, а нам, что теперь мы будем строиться по барабанному бою, и тут же велел Зиновьеву пробить повестку, сбор к столу и общий сбор. Нечего говорить, что нововведение это нам очень понравилось, и скоро многие из нас обзавелись маленькими барабанами; а у кого их не было, то просто палками, которыми и выбивали старательно разные бои по деревянным скамейкам.
В августе 1833 года я в числе других 25 кадет был переведен из малолетнего отделения в главный корпус и поступил в неранжированную роту. С тяжелым чувством приступаю к рассказу об этом времени. По правде сказать, мало отрадного вынесла память моя из детства, проведенного мной первые два года в главном корпусе. Я ли виноват в том или суровая обстановка, среди которой очутился я в новой школе, не знаю: пусть судят об этом другие, кому доведется читать рассказ мой.
Прежде всего скажу о главных лицах корпусного управления. Директором в то время был генерал-майор Карл Павлович Ренненкампф, высокий, флегматичный немец с кроткой, незлобивой душой, с мягким и добрейшим сердцем, человек, которого все любили — и кадеты, и офицеры. Он редко ходил по ротам, где за него бодрствовал батальонный командир полковник < Викентий Францевич> Святловский, но чаще бывал в классах.
Если ему случалось когда-нибудь делать замечания, то делал это спокойным, ровным голосом, без малейшего признака горячности.
Теперь о ротных командирах. Первой мушкетерской ротой командовал капитан Виктор Христианович Минут. Из юнкеров гвардейской артиллерии поступил он в Артиллерийское училище, откуда по окончании курса произведен прапорщиком в полевую артиллерию. В Московский корпус поступил он в 1826 году, имел классы математики и в 1834 году назначен помощником инспектора классов, сдав роту штабс-капитану Николаю Михайловичу Флейшеру.
Высокий, несколько сутуловатый, с бледным лицом и слегка ввалившимися щеками, серьезный, сосредоточенный, Минут внушал кадетам больше страха, нежели расположения к себе; ибо и само образование, которое отличало его от многих сослуживцев, не мешало ему, как мне рассказывали, пускать в ход свою табакерку по головам кадет, если кому-нибудь приходилось своей непонятливостью при объяснении математики вызывать его раздражительность.
Преемник его Флейшер получил образование в Юнкерской школе, находившейся, кажется, в Могилеве при главной квартире 1-й армии. Нечего и говорить, что это образование не могло бросаться в глаза; но недостаток его искупался, по крайней мере, здравым смыслом, добрым сердцем и душой, чуждой лукавства.
Добродушие Флейшера не мешало ему быть строгим, особенно с теми, которые в общем мнении слыли «старыми» кадетами — обыкновенно лентяями: тут уж у него каждое лыко шло в строку. Сколько могу припомнить, Флейшер перед всеми своими сослуживцами отличался особенной способностью изловить, накрыть, захватить на месте преступления виновного в каком-либо проступке, как, например, в нюхании или курении табаку, чтении запрещенной книги и т. п. Все эти нюхальщики и курильщики были у него на счету и служили постоянным предметом подтруниваний его над ними, что он обыкновенно делывал в присутствии их товарищей; впрочем, эти насмешечки не только бывали безобидны, но, по особой манере Флейшера выражаться, казались более забавными.
Гораздо отчетливее выдавалась личность командира 3-й роты Карла Ивановича Гросвальдта, аккуратного немца, высокого, стройного, красивого и отлично выправленного карабинера, поступившего в корпус из егерского фельдмаршала князя Остен-Сакена полка, в каком именно году — не знаю. Ничем нельзя было так угодить Карлу Ивановичу, как щегольством и опрятностью в одежде, в особенности если к этому качеству кадет присоединял еще уменье ловко являться ординарцем или вестовым или ловко танцевать — вообще блеснуть наружно. Таких он особенно жаловал, называя их «красавчиками-молодцами», чем всегда напоминал мне Суворова, называвшего своих соратников чудо-богатырями. Если «красавчику-молодцу» случалось провиниться, то Карл Иванович журил его с отцовской снисходительностью; но если же попадался какой-нибудь вахлак с непричесанными волосами, с разорванными штанами или курткой или какой-нибудь отъявленный лентяй, который то и дело попадал в журнал ленивых, тогда Карл Иванович выходил из себя и, раскрасневшись как индюк, с каким-то ужасом восклицал: «Ах ты, арнаут!» Но почему именно арнаут — это оставалось нам неизвестным. Боже мой, как теперь все это смешно; но ведь тогда-то далеко было не до смеха, потому что вслед за «арнаутом» могли быть и розги.
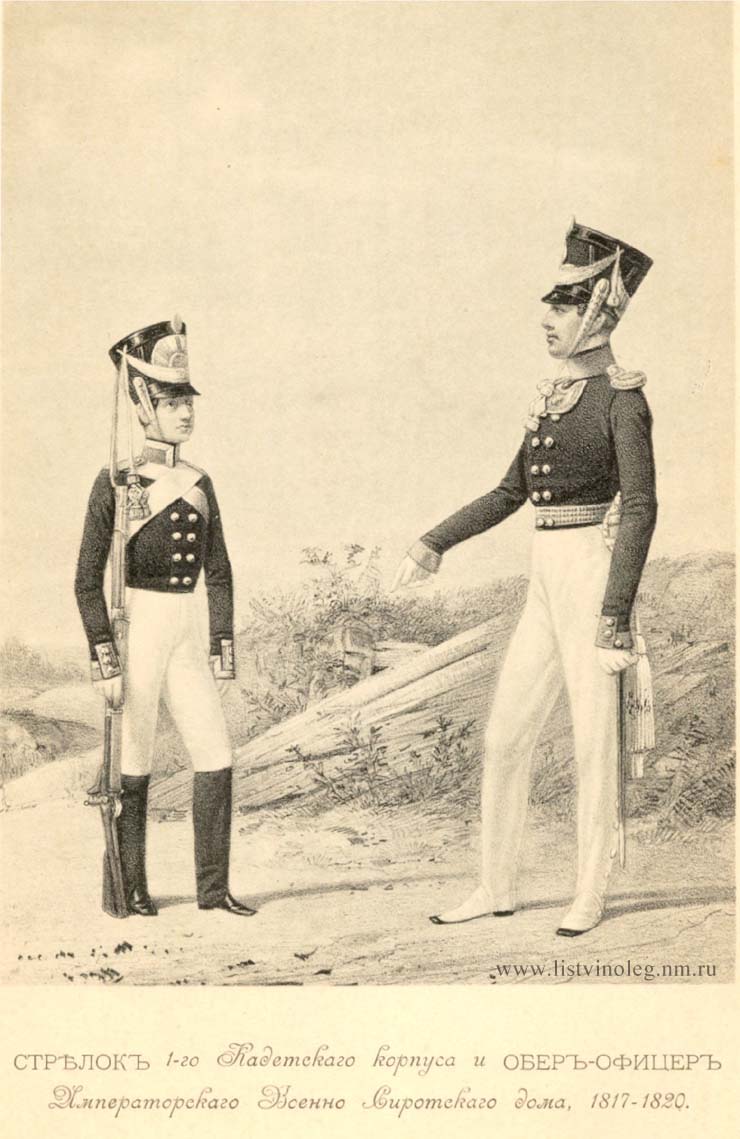
С отрадным чувством благодарности и уважения перехожу к воспоминанию о последнем ротном командире той именно роты, куда я поступил. Это был капитан Александр Николаевич Черкез. Хотя в корпус он поступил в 1829 году из армии, но тотчас можно было заметить, что он воспитание получил в порядочном семействе, а не в солдатской казарме. В самом деле, мало было офицеров, которые имели бы охоту или уменье обращаться вообще как с взрослыми, так и с маленькими кадетами, и мне кажется, что для неранжированной роты нельзя было выбрать лучшего ротного командира.
Однако ж, если б кто-нибудь подумал, что начальство, назначая Черкеза командиром роты, состоявшей их 10-летних мальчиков, руководилось нравственными его свойствами, то он очень бы ошибся. Подобные соображения едва ли входили в голову батальонного командира. Доказательством тому может служить то, что в той же роте в числе отделенных офицеров был поручик Соколовский, которому не было места не только при маленьких детях, но и вообще в корпусе. Гордый, надменный, с холодными чувствами, он был чрезвычайно высокого о себе мнения, отчего и не удостаивал внимания почти никого из своих товарищей-сослуживцев. Это было сухое, черствое сердце, не смягчавшееся даже в обхождении с 10-летними мальчиками. Не то чтоб он был строг — это бы еще ничего, но он был просто зол, жесток. Я до сих пор не могу забыть С-ва, кадета его отделения; этот бедняга был буквально без висков, потому что волосы все были вырваны и развеяны Соколовским. Как такой человек мог быть воспитателем вообще, а тем более в младшей роте?
Таковы были господа, к которым, по определенному порядку, должно было после классных дам перейти благопопечение о нашем воспитании. Тяжело было… Но ведь это же прошло…
Расскажу, как проходил день наш. Вставали мы в 6 часов утра и тотчас же должны были «чиститься» и «чиниться», то есть должны были вычистить себе сапоги и пуговицы и починить платье, для чего в особой комнате, называемой умывальной, служителями приготовлялись вакса в большой деревянной чашке, сапожные щетки, тертый кирпич и проч. Тут же сидел портной, который помогал «чиниться»; но так как один человек, несмотря на то, что он работал всю вторую половину ночи, все-таки не мог перечинить одежду, которая на мальчиках, как говорится, огнем горела, то починкой большей частью должны были заниматься сами; можно вообразить себе, что это была за починка. Вся эта операция, вместе с умываньем, продолжалась около часа, во время которого комната принимала вид муравейника: мальчики сновали туда и сюда, торопясь привести себя в порядок, говоря один другому: «Дай после» (то есть щетку); «Постарайся иголки» и т. п.
Затем строились по отделениям для осмотра. Унтер-офицеры осматривали платье и сапоги, повертывая кадет во все стороны и заставляя поднимать то руки, то ноги, чтобы увериться, не разорвано ли где под мышкой, крепки ли подошвы, вычищены ли закаблучья.
Унтер-офицеры назначались из старших рот и высших классов, а потому они держали себя начальнически: им говорили вы и называли по имени и отчеству. Пользуясь таким почетом, некоторые из них, даже можно сказать большая часть их, употребляли во зло свое положение. Не думаю, чтобы начальство предоставило им власть оставлять кадет без пищи, драть за уши, давать толчки и т. п., — а все это было. Само собой разумеется, что в присутствии А. Н. Черкеза никто из них не смел этого делать; что же касается дежурных офицеров, то они смотрели на это сквозь пальцы.
Утренний осмотр был для нас первым испытанием: малейшая неисправность вызывала у унтер-офицера слова: без сбитня; без сбитня и без булки; без пирога; на один суп и даже без обеда, на хлеб и воду. Трудно поверить этому, а еще раз повторяю: все это было… После унтер-офицеров осматривал кадет дежурный по роте офицер; при этом случае представлялось менее уже шансов подвергнуться упомянутым наказаниям, как потому, что предварительный осмотр унтер-офицерами устранял поводы к ним, так и потому, что офицеры все-таки были рассудительнее своих юных помощников.
После утренней молитвы и завтра, состоявшего из булки и кружки сбитня, мы шли в классы, где и оставались от 9 до 12 часов.
В 12 часов выводили нас на внутренний дворик , и начиналось фронтовое ученье, которое в неранжированной роте ограничивалось рекрутской школой, то есть стойкой, поворотами и учебными шагами. Ничего не было скучнее и несноснее, как эти ученья, особливо если кому-нибудь приходилось выходить на них с тощим желудком, о чем сужу потому, что мне иногда случалось бывать в таком положении. Помню, как однажды, — это было в свежий и ясный сентябрьский полдень — я стоял в шеренге и машинально повертывался по команде унтер-офицера У-мова то направо, то налево; оставленный в тот день за что-то без завтрака, я был голоден и думал только об одном: как бы дождаться обеда. Запах печеного картофеля, разносившийся по двору из открытых окон подвального этажа, где жили служители, усиливал мои мученья .
После ученья мы обедали, потом до 3 часов были свободны, от 3 до 6 — вечерние классы, затем до 8 часов опять рекреация, потом ужин, перекличка по ротному списку, чтение приказа по корпусу, вечерняя молитва, и спать.
Воскресные и праздничные дни проходили несколько иначе. Поутру, после завтрака, рота приходила в движение и снова начиналась неизбежная чистка: готовились к церковному параду, назначавшемуся на 9 часов. После церемониального марша, повзводно которым проходили мимо батальонного командира Святловского, мы отправлялись в церковь к обедне. После обедни, если не было назначено развода, начальство наше расходилось, и мы в течение остального дня имели столько свободного времени, что, несмотря на всю нашу резвость, не знали, куда девать его. Набегавшись и наигравшись, некоторые группировались по уголкам и заводили речь о «страшном» или пересказывали друг другу предания о том времени, когда еще были только две роты, и чего-чего тут не рассказывалось!
В 1835 году я отбыл первый лагерь, который устраивался у нас в полутора верстах от села Коломенского, при деревне Ногатиной. В лагерь выступали в половине июня. В день выступления кадеты с утра одевались в походную форму — в шинели и белые брюки, что нас, новичков, то есть в первый раз выступавших в лагерь, очень занимало. С этими шинелями шла возня до самого обеда; хотя они еще за неделю были на нас «пригнаны», но многие оставались недовольны пригонкой каптенармуса и теперь старались исправить то, что кому не нравилось. Заботились больше всего о том, чтобы шинель не казалась мешком, а сидела бы ловко, чтоб была видна талия, а назади все складки были бы собраны аккуратно. Все это достигалось посредством различных приспособлений — пересадки крючков, пуговиц, перешивки тесемок и проч.
Здесь я должен заметить, что солдатское щегольство это вызывалось отнюдь не требованием начальства, которое (надо отдать ему справедливость), наблюдая за чистотой и опрятностью, было далеко от таких тонкостей, за исключением разве одного Гросвальдта. У нас были судьи другие — некоторые из своих же товарищей, преимущественно те, которые были мастерами по фронту, «фронтовиками», и потому пользовавшиеся по своей специальности общим у нас авторитетом. Эти если, бывало, увидят на ком-нибудь завалившийся набок или на затылок кивер, или опустившуюся амуницию, или неподтянутый приклад, тотчас же скажут: «Эх ты, шмара!» И хоть никто не понимал, что такое шмара , однако ж не совсем равнодушно относились к такому прозвищу и всячески старались избегать его не только из ребяческого самолюбия, но и потому, что иметь во мнении фронтовика репутацию «шмары» было невыгодно. Им наравне с унтер-офицерами поручали на одиночном ученье обучать новичков, и если кто из последних казался фронтовику «шмарой», то такому уже нечего было ожидать снисхождения.
Вот пример. На первых порах, по переводе меня из неранжированной во 2-ю мушкетерскую роту, я был тоже «шмарой». Помню, однажды (дай как забыть это!) меня обучал стойке ефрейтор Д-сов 1-й; не привыкнув еще к тяжести ружья и простояв несколько минут «под приклад», я искривился и выпятил правый бок. Не догадался Д-сов дать мне отдохнуть, а заметил только, что я стою кренделем; само собой разумеется, что одно его замечание не могло распрямить мою фигуру. Что же Д-сов? Не говоря дурного слова, поднял свое ружье и двинул меня в бок прикладом. Пусть извинит меня читатель, если я отрываюсь иногда от рассказа и вдаюсь, скажут, может быть, в мелочи. Но вот в том-то и дело, что это не мелочи, а крупные штрихи в картине тогдашнего нашего быта, затушевывать которые я не вижу никакой надобности. Возвращаюсь к рассказу.
Через час после обеда, который в этот день назначался несколько раньше, вокруг стен корпуса раздавался бой генерал-марша. Кадеты надевали походную амуницию, строились по батальонному расчету и выводились ротными командирами на большой двор, где уже стоял столик с водосвятной чашей и был в готовности священник с остальным причтом для служения напутственного молебствия перед выступлением «в поход».
Пока батальон выстраивался и равнялся, двор наполнялся многочисленной публикой, пестревшей разнообразными дамскими нарядами и зонтиками, что придавало всей сцене праздничный вид. Это были родители, родственники и знакомые, приехавшие проститься с детьми; были и просто зрители, каких обыкновенно во множестве видим на военных парадах.
Но вот показывается знамя, раздается бой гвардейского похода, батальон отдает честь. Через несколько минут подходит директор. Снова команда: «На караул!», снова грохочут барабаны, гремит музыка. Обойдя фронт, директор приказывает построить каре. Пока батальон перестраивается и исполняется команда: «На молитву — кивера долой», священник с диаконом надевают ризы, и дьячок раздувает кадило. Начинается молебен тихим, согласным пением причта: Царю Небесный…
Восемь лет сряду приходилось мне присутствовать при таком молебствии, и всякий раз умилительные слова: Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды — приводили меня в благоговейный восторг, создававший в воображении моем лик Небесной Заступницы. Чиста и светла молитва юности.
Молебен кончается, священник обходит фасы каре, кропит нас святой водой, и батальон снова развертывается в линию. Батальонный командир, младший штаб-офицер и адъютант садятся на лошадей; раздается команда: «По отделениям направо заходи», и потом: «Скорым шагом марш», — и мы под звуки горнов и грохот барабанов оставляем на два месяца Головинский дворец. Пестрая толпа сопровождает нас, кто в экипажах, кто пешком; по пути присоединяются босоногие мальчишки и другой праздный люд, группируясь преимущественно около музыкантов. Музыка, игравшая во все время, пока мы шли в черте города, развлекала нас, притом же по мостовой идти было гораздо удобнее, между тем как за Проломной заставой тотчас же начиналась грунтовая дорога, обдававшая нас облаками пыли, что при невыносимой вони от находившихся поблизости боен составляло истинное мучение, особливо когда погода стояла жаркая.
Под Симоновым монастырем батальон останавливался, ружья ставили в козла, снимали ранцы и делали привал. Тут нам раздавали по булке и по кружке сбитню, а кого провожали матушки и тетушки, те усаживались с ними угощаться лимонадом, чаем, молоком, пирожками, апельсинами и проч., у кого что было запасено. После двухчасового отдыха дежурный барабанщик ударяет повестку, мы поднимаемся, надеваем ранцы, берем ружья и по бою «фельд-марш» идем дальше.
Наконец, усталые и покрытые с ног до головы толстым слоем пыли, приходим в лагерь. В последний раз батальон выстраивается на батальонной линейке для отдания чести знамени, при относе его в палатку батальонного командира; затем разводят поротно, делают расчет по палаткам, а мы расползаемся по всему лагерю, как муравьи в муравейнике. Наибольшее скопление и движение замечалось в унтер-штабе: это позади лагеря, около палаток служителей. Там старались раздобыться водой, чтоб утолить жажду и умыться, а затем захватить побольше хворосту для устройства себе кроватей, потому что палатки отводились совершенно пустые.
Кровати были главной заботой в этот вечер, несмотря на усталость и желание отдыха. Долго еще после ужина возились мы с кольями, хворостом, соломой, подушками и все-таки проводили ночь кое-как; работа продолжалась и на другой день; а кто был поплоше да помешковатее, так у тех и на третий. По приходе в лагерь давали нам трехдневный отдых, и в эти-то три дня мы должны были окончательно устроиться в лагере.
Когда кровати были поделаны, начинались хлопоты об остальном хозяйстве: надо было достать где-нибудь кувшин, чтобы ходить за водой, припасти тертого кирпича для чистки медных вещей, отыскать какую-нибудь посудинку или просто черепок для ваксы и тому подобное. У кого были в Москве родные, тот заранее, перед выступлением в лагерь, запасался иголками, нитками, разного рода щетками и уж непременно складным садовым ножом, без которого в домашнем обиходе никак нельзя было обойтись.
К числу всех этих хозяйственных потребностей надо отнести также маленьких животных и птиц, которыми обзаводились кадеты преимущественно 2-й и 3-й рот.
Откуда что бралось: не успеешь прийти в лагерь, как появлялись кролики, морские свинки, щенки, прирученные галки, воробьи, молодые совы, коршуны и проч.
В палатку ставили по четыре человека — иногда по согласию, а то и просто по назначению фельдфебеля; в последнем случае малознакомых товарищей общая нужда и взаимные услуги иногда так тесно сближали в течение двухмесячной лагерной стоянки, что приязнь и дружба оставались на все время пребывания в корпусе. Самыми несчастными были те, которым приходилось стоять с унтер-офицерами: и воды ему принеси, и пуговицы вычисти, и туда сходи, и сюда; а попробуй не послушаться!..
В год, когда мне пришлось в первый раз отбывать лагерное время, житье было суровое. Умывальников не было — ставили по два ушата с водой и ковшами; а так как для целой роты такой способ умыванья был слишком медлен, то приходилось самим ходить за водой и помогать друг другу умываться. Обедали под открытым небом из деревянных чашек и деревянными ложками, без вилок и ножей. В палатках во время жары духота, а при дожде — сырость, от которой не спасали никакие приспособления: ни подшиваемые наверх простыни, ни канавки, ни валики вокруг палаток.
Место для лагеря было выбрано чрезвычайно неудачно — кругом почти везде песок и ни одного деревца, ни одного кустика, которые разнообразили бы эту «сахару». Помню, что как-то, гуляя однажды по плацу и собирая на нем камешки, заметил я в стороне небольшую лужайку, которая посреди тощих песков красиво выдавалась и бросалась в глаза своей растительностью. Понравилось мне это местечко, и я любил ходить туда, сиживал там один-одинешенек по часу и более. Присматриваясь к неправильным очертаниям краев лужайки, я уподобил ее не оазису, а острову, которому дал какое-то название, а себя воображал <капитаном> Куком. Фантазия моя так развернулась, что я однажды пришел туда с бумагой и карандашом, чтобы описать свой остров; но ничего из этого не вышло: оказалось, что гор на нем не было, так же как и замечательных заливов — так, разве бухточки небольшие. Произведения трех царств природы тоже не отличались особенным богатством и разнообразием: щавель, тмин, розовая кашка, из которой можно было высасывать мед, и еще какая-то трава с желтыми цветами, которой стебли имели острый вкус, отчего и называли ее дикой редькой, — вот все, что было из царства прозябаемого; кузнечики, стрекозы, шмели, пчелы и божьи коровки разных цветов — из царства животных, а ископаемые ограничивались окаменелостями и кремнями, к которым я присоединил еще простые обыкновенные речные раковины и ракушки, находимые по песчаным берегам. Хотя географическая наука не обогатилась описанием открытого мной острова, но он все-таки казался мне самым приятным уголком во всем лагере.
Впоследствии, когда лагерь перевели из Ногатина в Коломенское, все переменилось. Приходя из Москвы, мы находили просторные и хорошо устроенные шатры, в которых помещалось по целому взводу; были устроены кровати, рукомойники и навес над столами; появились тарелки, ножи, вилки и другие удобства; но в 1835 году все было так, как я сказал выше.
После трех дней отдыха начинались лагерные занятия. Вставали мы в 6 часов, а в 7 были уже на ученьях, которые в первую половину лагеря бывали одиночные, шереножные и ротные, а во вторую большей частью батальонные. Какое бы ни шло ученье, Святловский всегда бывал на плацу, зорко и строго следил за наукой. «Чему не научимся теперь, тому уж поздно будет учиться зимой», — обыкновенно говаривал он, и нас учили; а притом, в силу русской поговорки, что за битого двух небитых дают, пороли. Ученье продолжалось два часа, после того развод, ординарцы и топографическая съемка; в час обед, до 6 часов отдых, от 6 до 8 опять ученье, потом ужин, в 9 заря, и в 10 ложились спать.
Когда перешли в Коломенское, то распределение времени было изменено. Так, например, после утреннего ученья, кто не участвовал в разводе, тех посылали на гимнастику, после которой всех усаживали в столовой за книги, чтобы повторить пройденное в минувшем курсе и подготовиться к будущему. Предметы для занятий были необязательны, кто чем хотел, тем и занимался: историей, географией, математикой, но больше всего занимались русским языком, то есть, ничего не делая, болтали всякий вздор. Да правду сказать, могли ли идти в голову занятия мальчикам, путем не выспавшимся, утомившимся и проголодавшимся после разных экзерциций, да еще в полуденную пору, хоть бы и под навесом? С обеда до 4 часов давали отдых и в Коломенском, но он нередко уходил на разборку и чистку ружей, амуничной меди и проч. С 4 часов кадет старших возрастов занимали стрельбой в цель, приемами при артиллерийских орудиях, работами в артиллерийской лаборатории и разбивкой какого-нибудь полевого укрепления.
Каждое воскресенье и праздник, когда кадеты освобождались от обыкновенных ежедневных занятий, назначался утром церковный парад, после которого батальон отправлялся в Коломенское, в церковь Казанской Божией Матери к обедне. Возвратясь в лагерь, мы освобождались на весь день и проводили время, кто как знал. Развлечений нам и здесь никаких не делали; по крайней мере ничто не давало заметить, чтобы начальство об этом заботилось, а между тем у нас под боком были Коломенское и Царицыно с их дворцами и садами. Из черты лагеря никуда, бывало, ни на шаг, разве только на купанье поведут; это было единственным нашим развлечением, да и то с горем пополам. До Москвы-реки надо было пройти версты полторы; пока удовольствие впереди, идешь бодро и весело, а поведут назад, опять раскиснешь, как будто и не купался.
Поневоле, бывало, слоняешься по лагерю, не находя себе дела и ища развлечения в каких-нибудь шалостях и школьных выходках. Так, я помню, случалось, что от скуки, от безделья сойдутся двое-трое и уговорятся идти на «фуражировку» за огурцами на крестьянские огороды. Мужикам не жаль было огурцов, но досадно было разоренье и притаптывание гряд, что неминуемо случалось, потому что «фуражирам» второпях некогда было рассуждать, что огурцов они возьмут на грош, а попортят на рубль. Иногда охотникам до огурцов удавались их экспедиции, а иногда и нет. Увидит их какая-нибудь баба, работающая в грядках, и закричит раскатистым голосом: «Ах вы, разбойники, да что ж это вы делаете?!» Сломя голову, бегут в лагерь хищники и нередко натыкаются на кого-нибудь из начальства. Улика налицо, и запираться трудно, и вот «фуражиры» остаются не только без огурцов и редьки, но и без обеда, а подчас бывало и хуже.
Грубы и жестоки были наши нравы в первой половине 1830-х годов. Помню, что однажды, под вечер, чуть ли не в какой-то праздник (вероятно, для того, чтобы на другой день не отнимать времени от ученья), на площадку, находившуюся между палатками, стали сводить роты, а когда все заняли свои места и водворилась общая тишина, Святловский приказал исправлявшему должность адъютанта поручику Денисову прочесть приказ Статковского, из которого узнали, что двое из кадет старших рот уговорили служителя принести им штоф водки и роспили его. Не знаю, почему последние слова обратили на себя особенное наше внимание, и мы, подражая голосу Денисова, повторяли потом: «и роспили его». Виновных наказали вслед за чтением приказа, но отчего им пришла эта блажь в голову?
Так проводили мы время в лагере. Чистый воздух был, кажется, единственным благом, которым пользовалась наша юность. В последних числах июля директор делал батальону смотр, поверял, чему научились в лагере, и затем начинались толки о возвращении в Москву. В первых числах августа мы выступали из лагеря, а в половине месяца начинался новый курс.
Статковский часто ходил по классам, присматривался и прислушивался к учителям и внимательно следил за ответами кадет, спрашиваемых в его присутствии; вообще, к умственному образованию воспитанников он относился весьма серьезно. Ни при одном из директоров леность и «неуспешность» в науках не преследовались так настойчиво и так строго, как при нем, даже, можно сказать, чересчур строго.
Особенную услугу Московскому корпусу оказал Статковский приглашением способных и сведущих преподавателей, в которых тогда был крайний недостаток. Большая часть преподавателей в первой половине 30-х годов были свои же офицеры, бывшие воспитанники кадетских корпусов Александровского царствования, между которыми если и встречались некоторые с основательными сведениями, то разве только по математике, а между тем, кроме Закона Божия, физики, химии, не было предмета, за преподавание которого они не брались бы. Нечего и говорить, что ученость их была весьма сомнительна, почему и выезжали они на щелчках да на толчках. Поверки познаниям и учительским способностям их тогда никакой не было, а потому попасть в преподаватели было очень легко — была бы только охота . Впрочем, и то сказать, само высшее начальство на жалованье, выдаваемое корпусным офицерам за преподавание наук, смотрело как на «сердобольное пособие».
В 1836 году было высочайше утверждено «Положение о службе по учебной части в военно-учебных заведениях». Положение это имело громадное влияние на учебную часть в кадетских корпусах. Действительно, служба учителей была поставлена в такие выгодные условия, что могла привлекать на эти должности людей вполне достойных, опытом доказавших свои познания и способности. Этим воспользовался Статковский .
С особенной признательностью вспоминаю я об одном из своих учителей того времени — Михаиле Ивановиче Хоткевиче. Это был первый учитель, у которого мне пришлось учиться географии. Ему обязан я, что такой, по-видимому, сухой предмет на первых же порах не опротивел мне, как это случается с некоторыми; напротив, география показалась мне предметом весьма любопытным, и я полюбил ее. Штатские учителя были вообще гуманнее и учтивее…